Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
От технологического суверенитета к продуктам будущего: интервью с Ильназом Зариповым
Современная промышленность и производство потребительских товаров немыслимы без массовых пластиков. А те, в свою очередь, невозможны без катализаторов, превращающих «побочку» нефте- и газодобычи в ключевой материал нашей эпохи. Какую роль в этом процессе играют ученые, как выглядит современная корпоративная наука в нефтехимии и какие возможности она открывает? Мы поговорили об этом с главой научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации».
Naked Science: Из полимеров состоит 80% всего, что нас окружает. Это и упаковка для еды и напитков, и стройматериалы, и запчасти для автомобилей, подошвы для обуви и многое другое. Давайте начнем с азов: как создаются полимеры?
Ильназ Зарипов: От добывающих компаний к нам поступают побочные продукты нефте- и газодобычи: попутный нефтяной газ и широкая фракция легких углеводородов [это смесь пропана и бутана и более тяжелых углеводородов, от C5 и выше. — NS], прямогонный бензин, этан, из которых на газоперерабатывающих заводах получают сжиженные углеводородные газы [в основном пропан, изобутан и н-бутан. — NS] — важнейшее исходное сырье. Из них в процессе пиролиза или дегидрирования мы получаем мономеры, в частности олефины. Их практически невозможно найти на Земле в свободном виде, и их искусственное получение из ископаемых углеводородов — первая и самая важная задача нефтехимической промышленности.

Эти вещества способны при определенных условиях соединяться сами с собой в очень длинные молекулярные цепочки — полимеры. После определенных превращений, уникальных для каждого вида полимера, образуются полиэтилен (из него делают пленки, трубы, канистры), полипропилен (автомобильные детали, пленки, техника), поливинилхлорид (оконные профили, линолеум, подвесные потолки), синтетические каучуки (резинотехнические изделия, автомобильные шины, подошвы обуви) и многие другие полимеры.
NS: Когда вы делаете какой-то новый катализатор, отрабатываете техпроцесс по новому для страны массовому продукту, тому же гексену, как чаще всего ставится задача? Заместить прежнюю технологию? Или еще и добиться новых результатов, благо за последние 30 лет те же катализаторы в нефтехимии серьезно эволюционировали? Какие задачи в основном стоят перед отечественной нефтехимией? Заместить ушедшие продукты и технологии? Или есть и уникальные продукты?
Ильназ Зарипов: Есть задачи обеспечения технологической устойчивости и суверенитета. Это разработка тех катализаторов и специальных компонентов, без которых встали бы те производства, что у нас сейчас есть. При этом мы имеем возможность при разработке собственных катализаторов «докрутить» отдельные параметры, чтобы повысить эффективность производства или улучшить характеристики получаемого продукта. Над такими проектами мы активно работаем с нашими научными партнерами, в частности, МГУ и институтами Российской академии наук.
Второй класс задач: разработка новых марок полимеров с новыми свойствами. На данный момент потребление полимеров на душу населения в России значительно ниже, чем в развитых странах, и мы видим растущий спрос – как за счет задач по импортозамещению, так и более широкому использованию эффективных решений из полимеров во многих отраслях. Такая работа ведется в тесной связке с партнерами в отраслях: это позволяет найти оптимальные решения для импортозамещения или совершенствования марок под конкретные запросы. Для сравнения – доля полимерных решений в ЖКХ в России – до 40%, а в Европе до 85%. По оценкам экспертов, в горизонте 2028 года потребление базовых полимеров в России может вырасти на 35-40% и достигнуть 6 миллионов тонн.

И есть третий класс задач, над которыми мы активно работаем с нашими научными партнерами. Это технологии и продукты, которых не существовало вообще. Но такие продукты могут серьезно изменить целые отрасли промышленности.
Например, это может быть суперконструкционный пластик, которого до того не существовало. И который обладает такой совокупностью механических свойств, что может конкурировать с металлами и их сплавами там, где до этого только металлы и применялись. Такие задачи, поисковые, технологии будущего, у нас тоже есть. Естественно, что задачи разных классов решаются в разные сроки, и более сложные — позже остальных.

Полиэфиркетонкетон (PEKK) — стремительно набирающий популярность термопластик, полимер ароматического кольца, содержащий повторы эфирных связей и кетоновых связей в основной цепи. Из него с помощью 3D-принтеров делают самые разные изделия для требовательных отраслей. Отличается очень хорошим соотношением прочности к удельному весу. СИБУР разработал собственную технологию производства полиэфиркетонкетона (ПЭКК / PEKK), одного из самых современных и востребованных на мировом рынке суперконструкционных пластиков. Пилотная установка мощностью 1,5 тонны пущена в научно-исследовательском центре «СИБУР-Инновации» в Томске.
NS: Могли бы для наших читателей привести конкретные примеры наиболее важных историй успеха «СИБУР-Инноваций»?
Ильназ Зарипов: Например, есть линейный полиэтилен, довольно эластичный материал. Это важнейший компонент упаковки. Вот чтобы полиэтилен стал линейным, достаточно эластичным, в него добавляют сомономеры — обычно это бутен или гексен (C6H12), наиболее распространенный — именно последний. Гексен получают тримеризацией этилена (присоединение трех молекул этилена друг к другу, 3 С2H4 → C6H12).

В Томске в 2016 году была разработана собственная технология получения гексена, собственный путь тримеризации. Она защищена множеством патентов, у нее есть свое торговое наименование HEXSIB. И вот прямо сейчас в Нижнекамске достраивается производство, где будут выпускать по такой технологии 50 тысяч тонн гексена в год, в следующем году установка будет пущена. Поскольку гексен — один из компонентов линейного полиэтилена, то строящаяся мощность закроет потребности российского рынка таком материале для производства упаковки, например стретч-пленки.

В России до этого гексен целевым образом не производили, даже на лицензионных технологиях, это первая история такого рода у нас. Было очень небольшое производство как одного из компонентов комплекса линейных альфа-олефинов, но там он был «один из», и совсем не в том масштабе, что нужен рынку. Теперь же у нас будет именно большая промышленная мощность, полсотни тысяч тонн в год.
NS: Могли бы вы привести конкретные примеры задач технологического суверенитета по катализаторам?
Ильназ Зарипов: В нашей работе по обеспечению катализаторами есть разные этапы. Сейчас мы завершили первую из них: поиск аналогов из дружественных стран. Это позволяет поддерживать выпуск до завершения всего цикла разработок и испытаний по нашим собственным решениям в этой области.
Параллельно мы ведем работы другого этапа: совместно с партнерами, например Институтом нефтехимического синтеза имени Топчиева РАН, с рядом вузов, работаем над созданием отечественных катализаторов. По некоторым их них мы уже прошли лабораторную стадию и сейчас занимаемся созданием промышленных мощностей по массовому производству этих катализаторов.
На катализаторах построено 80% производственных процессов в нефтехимии, без них нельзя получить полимеры нужных качеств. Например, автомобильный пластиковый бампер должен быть одновременно прочным, вязким и гибким — и если его катализатор недостаточно совершенен, то вместо защиты остальной машины при ударе он станет легко раскалываться даже при небольших воздействиях, потеряет свои возможности. Неудивительно, что в свое время за разработку катализаторов получения полиэтилена и полипропилена — кстати, как раз тех, что сейчас интересуют СИБУР, — химики Циглер и Натта получили Нобелевскую премию. Всего компания использует больше сотни разных катализаторов, из которых до 2022 года более половины были импортными.
Процесс разработки и опытно-промышленного производства такой длительный потому, что заменить один катализатор другим довольно сложная задача: когда вы его создаете, он сперва тестируется в очень небольших объемах в лабораториях, потом на опытно-промышленных установках, и только потом — в массовом производстве. Окончательно пригодность полимера для конечного продукта становится ясна только после того, как будет наработано и протестировано конечное изделие.
Этим занимаются наши коллеги в прикладных научно-исследовательских центрах «СИБУР-ПолиЛаб». Например, хромовый катализатор, технологию получения которого мы разработали, используют для производства марки полиэтилена, идущей на выдувное формование. Из полиэтилена такой марки делают различные емкости: флаконы для шампуня или канистры для автомобильных масел. И у тех же канистр очень много качеств (от устойчивости к некоторым жидкостям до способности переносить механические нагрузки, не трескаясь), без любого из которых они будут не нужны покупателю.

При этом, как я сказал, от замещения импортных решений мы перешли на ту стадию, когда наш опыт, компетенции и амбиции позволяют создавать новые решения. Поэтому развивается и научно-исследовательская инфраструктура.
Так, например, появился Центр пилотирования технологий в Тобольске. Это первый в России и не имеющий аналогов в мире мультифункциональный центр, в котором могут испытываться практически все технологии производства полиолефинов, которые есть в России. И вот в таком центре мы сможем испытывать новые катализаторы и новые технологии как раз «посередине» между лабораторией и промышленным производством. То есть выпускать новые полимеры или полимеры с применением новых катализаторов мы сможем в более крупных, по сравнению с лабораторными реакторами, объемах, что это позволит проверить все качества конечного продукта в самых разных практических приложениях и дальше масштабировать полученную технологию или катализатор.
NS: После 2022 года многие компании чуть не плачут, что раньше они никогда не искали столько научных кадров, а сейчас приходится, но найти сразу и в нужном объеме не получается. Как с этим у СИБУРа?
Ильназ Зарипов: Можно сказать так: кадровый вопрос у нас был актуален и раньше, а сейчас стал еще актуальнее. Потому что теперь у нас и число задач, и их сложность выросли кратно. Как мы решаем вопрос сотрудников? Для этого есть несколько путей.
Первый путь — развитие тех кадров, что уже есть в компании. Мы делаем это как через программы дополнительного образования, так и через стажировки у компаний-партнеров в России и обмен опытом с коллегами из дружественных стран.
Вторая история — привлечение сторонних кадров с необходимой экспертизой. Так делали и раньше, но теперь эту работу просто существенно усилили.
Третий путь — подготовка людей с нуля. Важно показывать весь горизонт возможностей. Для школьников проводим профориентационные мероприятия, поддерживаем химические олимпиады и специализированные конкурсы. В рамках сотрудничества с вузами проводим специализированные программы и стажировки, в рамках которых они получают возможность решать реальные задачи, учиться на практике и выбирать вектор собственного развития.
А в этом году мы запустили первую в России магистерскую программу по полиолефинам в Казанском национальном исследовательском технологическом университете: теперь у студентов есть возможность изучить весь цикл получения полипропилена и полиэтилена — самых востребованных полимеров, спрос на которые постоянно растет, погрузиться в разработку катализаторов, технологические процессы, одним словом, получить все необходимые знания для создания новых материалов и внедрения инноваций в производство.
Можно совершенно определенно сказать: талантливая молодежь у нас есть, и немало. Просто ею надо заниматься, ее надо искать, ее надо привлекать. Мы такую системную работу как раз и выстраиваем.
NS: А все-таки что у вас с конкретным числом научных кадров?
Ильназ Зарипов: Как я уже сказал, у нас в компании есть прикладные исследования, которые ведутся через систему «СИБУР-ПолиЛаб». И есть инновационные, прорывные — экосистема «СИБУР-Инновации», которые отвечают за разработку новых катализаторов, новых технологий и продуктов. Вот последним как раз я и занимаюсь.

Совокупно в обоих направлениях работают более 500 человек. Но при этом не менее важно то, сколько российских партнеров, научных и технологических, мы привлекаем для совместной работы.
Возьмем катализаторы производства полиолефинов. У нас есть очень компактные собственные команды, которые занимаются их разработками — всего в них два десятка человек в компании. А у наших партнеров — вузов и так далее — под наши потребности на разработку таких катализаторов работают более 50 ученых. У нас нет задачи переманить к себе всех лучших людей, мы считаем, что гораздо правильнее, когда и мы развиваемся, и через наши задачи развиваются наши партнеры.
NS: В последние два года сколько вы ученых привлекаете, чтобы примерно понять темпы пополнения?
Ильназ Зарипов: Если говорить про инновационные исследования и разработки, то мы сейчас строим новый исследовательский центр в Казани. Он будет флагманским отраслевым центром в области нефтехимических технологий в России. Запустили строительство в этом году, а закончить планируем в декабре 2026 года. И мы уже формируем команду для этого центра: если брать только этот год, то уже несколько десятков научных сотрудников мы привлекли в «СИБУР-Инновации» под задачи разработки новых продуктов и технологий.
До конца 2023 года наши инновационные разработки концентрировались в Томске, когда мы приняли решение строить центр в Казани, то постепенно начали перевозить туда людей. И сейчас уже 40% наших разработчиков размещаются в Казани, в том числе в совместных лабораториях с нашими научными партнерами
NS: Каков средний возраст ваших научных сотрудников?
Ильназ Зарипов: Коллектив у нас молодой, в среднем 32 года. Это меньше, чем в наших производственных подразделениях, например. Но это естественно: наука вообще такая отрасль, где молодежь особенно востребована.
NS: Один из важнейших вопросов в поиске молодых кадров сегодня — зарплаты. Я слышал не одну историю, когда, скажем, студент Бауманки приходит на практику на предприятие и узнает, что ему там после вуза 50–70 тысяч рублей предлагают, на чем его желание двигать вперед отечественную науку заканчивается, и в итоге он начинает работать не по специальности. Как с этим у вас, что вы предлагаете молодым ученым до 30 лет?
Ильназ Зарипов: Прежде всего важно отметить, что подход к молодым специалистам у нас индивидуальный, и многое зависит от уровня подготовки и вклада сотрудника. По нашей статистике, 35% молодых специалистов получают повышение уже в первые два года работы. Например, у нас есть руководители лабораторий, которым меньше 30 лет. Они начинали еще в университете — с практики или стажировок — и за полтора-два года после вуза смогли существенно вырасти. Это дает не только статус, но и значительно более высокий уровень дохода: зарплата может вырасти в два раза и даже больше за столь короткий срок.
Наши научно-исследовательские центры расположены в разных городах страны, поэтому у нас действует программа релокации: СИБУР возмещает затраты на переезд в новую географию и стоимость аренды квартиры.
Что касается мотивации, то, помимо зарплаты, многих молодых ученых вдохновляют задачи, которые требуют нестандартного подхода и дают возможность увидеть результаты своей работы в реальных технологиях, производственных процессах или инновационных продуктах. Мы создаем такие условия, чтобы каждый мог почувствовать, что его работа действительно меняет мир вокруг.
Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Микробиологи расшифровали геном бактерии Psychrobacter sp. SC65A.3, извлеченной из ледяного массива возрастом 5000 лет в румынской пещере Скэришоара. Микроб показал устойчивость к восьми классам современных антибиотиков. Это открытие подтвердило, что сложные механизмы защиты от лекарств развились в природе задолго до появления медицины и антропогенного влияния.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.
Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.
Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.
Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.
Понятно


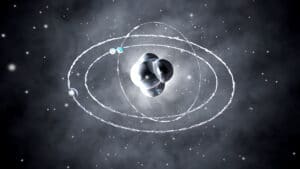





Последние комментарии