Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Генетическое редактирование: сможем ли мы создавать идеальных людей? Интервью с Денисом Ребриковым
Проект «Геном человека» закончился совсем недавно — последние фрагменты человеческого генетического кода были прочитаны к 2022 году — но мы уже умеем его редактировать. Как скоро генотерапия станет рутинной медицинской практикой, и имеет ли смысл редактировать гены для улучшения человека, рассказал Денис Ребриков, проректор по научной работе Медуниверситета имени Пирогова, директор Института трансляционной медицины Центра имени Кулакова.
— Почему вы считаете, что научную карьеру не надо рекламировать, не нужно агитировать молодежь идти в науку?
— Можно сравнить науку с игрой на музыкальных инструментах. Если мы начнем рекламировать поступление в консерваторию, увеличим ли мы число гениальных скрипачей? Возможно. Но еще больше у нас получится каких-то среднестатистических скрипачей, которые будут сидеть в невостребованных оркестрах. Только единицы будут гениальными музыкантами. Но в музыке могут быть востребованы все. Кого-то будет слушать компетентная публика, а кто-то будет играть для широких масс.
А в науке нет ширпотреба, мы играем друг для друга. Нам не нужны средние скрипачи. Их роль у нас играют те, кого в западной науке называют technicians: техники, лаборанты. Это очень нужные люди в науке, без них ученый ничего не сделает. Они ставят реакции, нажимают на кнопки, переставляют пробирки. Это важно, но это не научная деятельность. Согласен, бывает, что ученые, аспиранты, молодые научные сотрудники берут паяльники, паяют, делают, строят схемы, но это происходит, когда они придумывает какую-то новую технологию или подход. Когда все придумано, инструкции написаны, методы отработаны, это уже дело лаборантов.
Поэтому вести пропаганду, привлекать в науку всех — вредно. Вред заключается в том, что эти «распропагандированные» ребята к концу вузовского курса понимают, что им не надо заниматься наукой.
В музыке могут быть востребованы все. А в науке нет ширпотреба, мы играем друг для друга. Нам не нужны средние скрипачи.
Представьте, что мы рекламируем школьникам научный карьерный трек, загоняем их туда, но они в какой-то момент разочаруются, поймут, что, например, им надо в бизнес. А они уже потеряли время, силы. Если ко мне придут такие середнячки, я их со временем отсею, но они потеряют время, которое могли бы потратить на то, чтобы идти куда им на самом деле надо.
Отдельный вопрос: а как профориентировать правильно? Потому что такого нигде в мире не придумано, как школьника, выпускника или студента третьего курса сразу правильно определить. Придумали двухступенчатую систему с бакалавриатом и магистратурой, чтобы была еще одна возможность перескочить. Но в целом проблема, как отобрать тех, кому действительно надо в науку, до сих пор не решена в общем виде.

— А как попали в науку вы?
— Я почему-то сразу хотел быть именно биологом, меня со второго класса прямо зарубило на биологии. Каким-то образом у меня на полке оказался учебник биологии для поступающих в вузы. Как он там оказался, загадка, потому что у меня в семье нет никаких биологов. Я его смотрел, мне прямо понравилась тема про клетку, что в клетке есть какие-то органеллы, как там все устроено.
В школе мне нравилось и природоведение, там были задания: измерять температуру окружающей среды, мокрый и сухой градусник. Это все надо как-то организовать, найти два градусника, ваточку подложить. Разные эксперименты мне сразу «зашли».
В моем классе училась девочка, у которой папа был химик. Она мне подарила штатив с пробирками. Мне очень нравилось из этих пробирочек что-то переливать.
Потом была дворовая химия: мы все время что-то взрывали, я ездил в сельскохозяйственный магазин, тогда еще можно было спокойно купить мешок селитры на удобрения. Газету мочили в этой селитре, она не взрывалась, но быстро тлела. У соседа были палки лыжные из магния, и мы взрывали магний с селитрой.
— Биологические эксперименты вы проводили?
— С первого класса у меня были рыбки, было три больших аквариума. Были и улитки, и ксенопусы. Еще мне купили детский микроскоп, я ходил в Битцевский парк, и там, как Дуремар, ловил сачком дафний, а потом смотрел на них в микроскоп. Откуда у меня этот интерес? Никого вокруг не было, кто мог бы меня увлечь этим. Это что-то спонтанное.
Потом в пятом классе я пошел в школу «Самбо-70», она была недалеко. Мне мама предложила: «Вот есть спортшкола, хочешь?» Я сказал: «Хочу». И я пять лет учился в «Самбо-70» на Теплом Стане. Это была по сути школа олимпийского резерва. Тогда СССР хотел сделать самбо олимпийским видом спорта, но не успел, поэтому все потом стали дзюдоистами.
Но биологию я не забывал, я даже пробовал сдать биологию экстерном, но неудачно. Мне хотелось куда-то бежать быстрее по биологии. Но биологию в «Самбо» плохо преподавали, и я опасался, что не поступлю в МГУ, а мне очень хотелось в МГУ. Поэтому я на два года перешел в биологический класс 43-й школы на Юго-Западной.
Я сидел за одной партой с самым умным мальчиком, с отличником. Я у него списывал, а его никто не обижал. На биофак я поступил с первой попытки, по какой-то нижней границе, но прошел.
— Уже в МГУ вы понимали, что вот она профессия? Как вы себе представляли тогда свое будущее?
— Я быстро понял, что просто учиться на биофаке скучно, и на втором курсе я поступил еще на вечерний психфак. Тогда можно было бесплатно поступить на любой второй факультет. Со второго курса я заканчивал учебу на Ленгорах ехал в центр, где старое здание МГУ, на психфак, а потом еще ехал в свою лабораторию.
— Откуда у вас еще и лаборатория?
— Потому что наш биологический класс раздавал детей на практику. Нам расчищали один день в неделю от занятий именно для того, чтобы мы ездили в лаборатории. Я попал в очень классную лабораторию. У нас в 43-й школе вел физику Лев Абрамович Остерман, выдающийся биофизик, который долго работал в Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта. Он приходил на урок и говорил: «У нас занятия сегодня про то-то и то-то. Ну что вы не прочтете в учебнике про это? Прочтете. Я вам лучше другое расскажу». Он рассказывал об интересных экспериментах, какие-то задачки давал на подумать. У него сын работал в то время в Институте генетики и селекции промышленных микроорганизмов (ГосНИИгенетики. — ред.) рядом с метро «Южная».
И когда началась раздача детей на практику, Остерман предложил пойти в лабораторию к его сыну. И мы с одной девочкой из класса пошли туда на практику.

И меня прямо это зажевало, вся эта работа с пробирками, все понравилось. Кайф от того, что ты манипулируешь молекулами. Сама механическая работа с пробирками, носиками, пипеточками, переливание — это кайф. Там в основном было классическое клонирование фрагментов ДНК в кишечных палочках E.Coli. Мы изучали дельта-эндотоксины бацилл Bacillus thuringiensis.
Сама механическая работа с пробирками, носиками, пипеточками, переливание — это кайф.
Эти бациллы в природе паразитируют на насекомых. Обычно есть насекомые, которые любят есть какое-то растение, например колорадский жук, и есть бактерия, которая паразитирует именно на этом насекомом, убивая его за счет токсина, который делает прободение в кишечнике.
Колорадский жук съедает этот листик, вместе с ним — эту спору бактерии. Бактерия размножается у него в кишечнике, убивает клетки кишечника, возникает прободение стенки кишечника — жук дохнет. Собственно, бацилла его съедает таким образом. Потом опять превращается в споры, ветер разносит споры по полю, цикл повторяется. И мы изучали эти самые белки-токсины, которые делают дырки в мембране клетки эпителия, изучали их трехмерную структуру, делали рентгеноструктурный анализ.
И всегда работали две команды. Белковики, которые нарабатывали белок и получали кристаллы. Делали рентген не у нас, а в Германии, куда-то туда отправляли. А параллельно работала группа клонировщиков, которые должны были отсеквенировать ген. Ну а секвенс дает нам, собственно, набор аминокислот. И мы клонировали эти гены из каких-то конкретных бактерий, проверяли токсичность белка, экспериментировали на гусеницах.
И после поступления на биофак я вернулся в эту же лабораторию, после перерыва где-то с полгода. Мне давали задачи, но я никак не был оформлен. Видимо, было хорошо для лабы, что на меня не надо тратить время, учить, а можно было просто давать задание. Это в основном была техническая работа. Я даже не всегда понимал, зачем мы это делаем. Странно, но меня почти никогда не интересовала глобальная задача. Конечно, если бы я спросил супервайзера, он бы мне рассказал, зачем мы делаем какую-то фаговую библиотеку, отбираем какие-то клоны. Но интересен был сам процесс, никто не знает этот секвенс, а мы его возьмем и узнаем. Круто! Это уже само по себе интересно.
— И все пять лет в университете вы ходили в эту лабораторию?
— Не пять. Я за четыре года окончил биофак, потому что учиться было скучно. Я пришел на четвертом курсе к завкафедрой, к академику Александру Сергеевичу Спирину (это ему построили целый научный город в Пущино), и говорю: «Можно сдать экстерном? Вот у меня зачетка закрыта, все сдано, хочу защитить курсовую и диплом». Он говорит: окей, принесешь подписанный руководителем курсовик и диплом, посмотрим. Я приношу, потому что я к тому моменту в лаборатории уже шесть лет, у меня все наработано. Но Спирин стал в позу, он не любил выскочек. Он говорит: «Не дам защититься раньше. Вот курсовик ты защищаешь, а диплом ты приедешь через год и выступишь со своим курсом».
И целый год было нечего делать. Я уехал в Чикаго, меня позвали туда как раз уехавшие к тому моменту из моей лаборатории только что защитившиеся аспиранты. Они меня позвали в Чикагский университет, и я год там проработал. Статус у меня был visiting student, формально я учился как студент в Чикагском университете, но в основном я просто работал в лаборатории. У меня даже стипендия была.
— Вы впервые тогда увидели иностранных ученых? Насколько они сильно отличались от российских — в подходах, в отношении к жизни?
— Ну это была не репрезентативная история, потому что я приехал в лабу, где из, наверное, восьми ученых было пять русских, и только два американца. И мы шутили над ними. Одного звали Джулс. Я говорил ему: «Джулс, ты здесь не выживешь». Там были почти все русские и разговаривали в основном по-русски. В соседних лабах тоже было очень много приезжих из разных стран.

— Вы могли бы остаться в Чикаго, и хотели бы?
— Легко. Я там не остался, потому что весь этот жизненный трек представил себе — до пенсии. Он был с вероятностью 95% реализуем, и эту жизнь я в своей голове прожил. И мне стало неинтересно ее реализовывать. Я видел, что я стану профессором, сижу на берегу океана во Флориде, у своей виллы. И мне стало неинтересно это реализовывать. Вероятно, это специфика генотипа, что мне нужна высокая степень неопределенности и текущего, и будущего. Мне некомфортно в стабильности. Я уехал. Я понял, как устроена Америка, и дальше мне стало скучно.
Я вернулся, я написал академику Евгению Свердлову, который читал у нас лекции на биофаке. Я приехал в аспирантуру, поступил к Свердлову, и буквально я проходил две недели, и в коридоре встречаю старого знакомого из лаборатории в ГосНИИгенетики. Он говорит: «Иди к нам!» — «А куда, к вам?» А «к нам» — это в только что отпочковавшуюся новую лабораторию. Молодой Сергей Лукьянов, сейчас наш ректор, был завлабом там.
Я видел, что я стану профессором, сижу на берегу океана во Флориде, у своей виллы. И мне стало неинтересно это реализовывать.
На тот момент они думали о генетике модельных объектов, занимались планариями, это маленькие пресноводные плоские черви. Они очень хорошо регенерируют, его можно нашинковать в труху, и каждый кусочек станет новым червяком. И мы разбирались, как это работает.
С тех пор я с Лукьяновым, я защитился там, на этих червяках. Но сам объект для меня был вторичен, меня интересовали методические вещи. Я и у Остермана был методист, и тут у меня начальник хороший методист, и вот это все меня увлекало — игра в молекулы.
— А в какой момент вы начали работать с человеческими геномом?
— После аспирантуры я ушел из института, пошел работать на фирму «ДНК-технологии», которая выпускает оборудование, делает много разных научных приборов. Я был там зам по R&D, мы разрабатывали ПЦР-тест-системы, аппараты для этого, реагенты. И это уже ближе к человеку.
А потом меня Лукьянов позвал сюда, когда он стал ректором в университете Пирогова в 2015 году, ему нужна была команда. Это была нетривиальная история, когда на руководство значимым «куском» медицины, Пироговским медуниверситетом пришли варяги, абсолютные Рюриковичи.
Медицина всегда очень закрытая, тут люди работают поколениями, династиями. И тут вдруг приходят руководить медициной вообще не медики, а какие-то биологи. Но конфликта никакого не случилось, медицина — это армия. Тут пришел генералиссимус и все взяли под козырек.
Что Лукьянову удалось, это повлиять и на образовательную часть, и на научную, он смог переформатировать подходы. Мы, когда пришли, говорили на разных языках. Я практически из Америки приехал, я там недолго жил, но именно там у меня сформировалось определенное мировоззрение. Я рад, что я там провел год своей жизни, я отформатирован, в том числе, Америкой, это осталось на всю жизнь.
— А чем Америка особенна, на ваш взгляд?
— Есть гипотеза, это нам рассказывал академик Свердлов, что американцы — селектированная нация, их популяция обогащена такими генотипами, которые отличаются нонконформизмом, надеждой на себя, на свои силы, а не на «доброго царя». Это страна, которая отобрала по миру таких людей. И у них титр таких «воробьев», которые первыми выпрыгивают за зернышками, гораздо выше, чем на всей остальной планете. Поэтому они генерируют айфоны, ракеты, которые вертикально садятся. У них популяция обогащена такими людьми.
— В чем вы видели свою задачу, когда пришли в университет Пирогова?
— В повышении КПД науки, фундаментальной и прикладной. Фундаментальное можно мерить по цитируемости. От наукометрии в целом никуда не уйти, потому что цитирования — это отражение востребованности исследования. От этого уже идут индексы Хирша, рейтинги журналов. К сожалению, никаких других массовых измерителей научной ценности в общем нет.
В прикладных разработках можно поставить KPI: чтобы технология получила разрешение на применение, регистрационное удостоверение на медизделие или на фармпрепарат. И можно в этих разрешениях мерить эффективность.
— Как вы себя сейчас видите, кто вы?
— К сожалению, я в очень большой степени администратор, на 80% я администратор, только, может быть, на 10–20% я ученый. Не скажу, что мне административная работа так уж в тягость, она интересна, она дает ресурсы в том числе для интересных мне научных задач.
В последние 10 лет мне интересно изучать генетику человека и влиять на нее, Евгеника-2.0, начиная от преконцепционного планирования. Уже через небольшое время это будет массовой реальностью: люди будут знакомиться по генетике. Уже сейчас это есть, и будет больше. «Большой брат» будет сравнивать генетический код и знакомить людей. Facebook запустил года четыре назад свой «Тиндер» — Facebook Dating. И я жду не дождусь, когда Цукерберг купит этот разваливающийся 23 and Me (биотехнологическая компания, которая одной из первых в мире стала предлагать услугу генетического тестирования. — ред.) и даст возможность подшивать генетический профиль к аккаунтам в Facebook, и дальше его «Тиндер» будет знакомить людей по генетике.

— А в этой массовой генетике есть какой-то научный смысл?
— Науки в этом тоже много, потому что мы, разбираясь в популяционной генетике, находим ассоциации, сопоставляем гены и фенотипы и понимаем, из-за каких генов у человека такой фенотип, или печень так работает, или мышцы, почему он может быть, например, выдающимся спортсменом. Но чуть шире это дает управление генетической программой, геномное редактирование. Методически мне это очень интересно. Это вызов. Сделаем или не сделаем?
И последние четыре или пять лет я активно занимаюсь генотерапией. Генетическое редактирование эмбрионов — очень узкий сегмент, там имеет смысл редактировать только в случае генетически обусловленной глухоты. А вот генетическая терапия уже родившихся детей — очень актуальна, очень много детей с моногенными заболеваниями, то есть нарушениями, связанными с поломкой конкретного гена.
Мы сейчас разрабатываем терапию на основе классической технологии доставки генов с помощью модифицированных аденоассоциированных вирусов (AAV), которые могут доставлять нужный ген в клетки организма. Нам удалось наладить серийное производство таких генотерапевтических препаратов. Если раньше на каждый препарат нужно было много лет разработок, то сейчас мы делаем препарат за полгода. И делаем много одновременно, у нас сейчас 90 препаратов в разработке. И они, разумеется, персонализированные, адаптированные под конкретный ген и конкретную поломку.
То есть мы секвенируем геном пациента, определяем, какое у него генное нарушение, делаем специально под него вектор — вирус-доставщик гена и дальше вводим его в организм, и он вставляет нужный ген в клетки организма. Допустим, есть ребенок без нужного гена вообще. Мы ему даем ген «в коробочке», ген попадает в клетку и начинает там работать. И мы таким образом восстанавливаем функцию.
Самой этой технологии больше 30 лет, но раньше она очень пугала регуляторов, потому что в США при первых применениях генотерапевтического препарата были летальные исходы. И поэтому каждый последующий препарат требовал десятилетий разработки. Их за всю историю сейчас разработано всего около 20 штук. Но оказалось, что то событие было редким. Если бы не тот летальный исход, то сегодня мы бы жили в эпоху массовой генотерапии. Технология старая, мы просто наладили потоковое производство и уже почти пролоббировали на регуляторном уровне официальное разрешение на применение незарегистрированного индивидуального генопрепарата.
— Мяч сейчас на стороне регулятора?
— Да, однозначно. Помимо генных препаратов есть еще клеточные, и вот клеточные в этом году были зарегулированы, то есть у нас сейчас есть возможность легально применять персонализированные клеточные препараты.
— А что это?
— Это могут быть либо аутологичные, либо аллогенные, то есть свои или чужие клетки. Если свои, то модифицированные, если чужие, то обычно не модифицированные. Их в обиходе называют стволовыми, обычно это мезенхимальные стромальные клетки, МСК так называемые. Их можно получать, например, из жира или из плаценты.
Эти МСК, если вколоть их, например, ребенку после гипоксии, то он проходит это состояние гораздо лучше. И даже дети с моногенными заболеваниями от таких чужих клеток нередко становятся лучше, потому что эти чужие клетки несут все те факторы, белки, которых ребенку не хватает. Чужие клетки живут в организме недолго, недели, месяцы, но пока они живут, они генерируют микровезикулы, экзосомы, пузырьки с регуляторными белками и молекулами, которые позитивно воздействуют на пациента. Поэтому клеточные препараты приходится вводить регулярно, а вот векторный генопрепарат обычно вводят однократно.
— То есть ваша лаборатория — это фабрика по производству персонализированных генных лекарств? Такой фармзавод?
— Мы его сейчас строим. Тут по соседству, на соседней площадке будет здание на 4 тысячи квадратных метров. Мы уже прошли проектирование. Маленький завод, но это надо измерять в объеме продукции: это будет 100 разных препаратов в год.
— А сколько всего заболеваний поддаются этому методу?
— Мы знаем примерно 7 тысяч ассоциаций ген — фенотип. Но из них не все актуальны, по разным причинам. Есть болезни с поздним стартом, которые начинают проявляться в старости, есть, где легкое течение. Но если взять болезни только с ранним стартом и с тяжелым течением, то их где-то 3 тысячи, это как раз то, что точно нужно лечить.
— А сколько потенциальных пациентов?
— В год в России рождается где-то 15 тысяч таких детей, где-то на 300–400 разных генетических заболеваний. Мы нашим одним заводиком не накрываем все разнообразие, но их будет два как минимум. Если дело пойдет, мы масштабируемся. Даже если мы будем делать не 400 наименований, а 200, это все равно уже очень круто. Плюс они будут каждый год частично повторяться.
— Где-то в мире такой подход уже реализован?
— В Штатах есть, но не массово. Там на все штаты, может, три такие точки, где пытаются. В Бостоне, в Массачусетсе, есть клиника. Они делают, может быть, десятки этих препаратов в год. Укол ребенку готовым препаратом стоит $3 млн. И это относительно дешево, потому что серийный препарат Novartis от спинальной мышечной атрофии стоит $2 млн. При этом существенную часть ценника образует регистрационная часть, пробиться сквозь FDA нужно много денег, а чтобы препарат сделать, нужно меньше.
Себестоимость препарата у нас — $10 тысяч , миллион рублей. Это себестоимость процесса: ученые придумали, как собрать молекулярную конструкцию, собрали ее, проверили безопасность, наработали препарат, проверили безопасность на мышах. И вот после всех проверок одна доза стоит $10 тысяч.
— Есть ли надежда, что это станет доступным? Потому что мало кто может выложить за лекарство $3 млн.
— Удивительная ситуация сегодня в России. Удивительная тем, что был создан фонд «Круг добра», который собирает с помощью дополнительных 2% НДФЛ около 60 млрд рублей в год, которые идут на эти дорогие препараты, в том числе от СМА. И парадокс в том, что они не успевают их тратить, потому что нет запроса на столько препаратов. В России дети со спинальной мышечной атрофией могут получить препарат «Золгенсма» от этого фонда. Но эти уколы закрывают только 1% от всех нуждающихся детей, потому что остальным детям с моногенными заболеваниями препарат не придуман, его негде купить.
У нас есть самотек, в клинике: дети идут самотеком. Нам показывают ребенка, я сбрасываю в R&D. Они отвечают: «Наш кейс, заболевание рецессивное, ген короче 4 тысяч пар, он годится в разработку». Мы ставим его в разработку, сейчас генов 90 в разработке. Немного мы их, конечно, выбирали, брали те случаи, где мы больше верим, что будет положительный эффект. Например, расстройства, связанные с печеночными ферментами хорошо лечатся, а вот неврология — не очень хорошо.

— Есть такое понятие «кривая инноваций», которая показывает, как быстро та или иная технология из экзотического новшества становится частью повседневной жизни, и сильно меняет эту жизнь. В какой точке этой кривой сейчас находятся технологии редактирования генома, генная терапия?
— Мы точно не внизу, не в начале кривой, мы ближе к середине. Может быть, снизу приближаемся к этой середине. Мы сейчас четко видим этот экспоненциальный рост по всем направлениям: уже сегодня есть несколько зарегистрированных, одобренных FDA генопрепаратов на основе CRISPR от серповидно-клеточной анемии, от наследственной, ретинопатии. Крупные IT-гиганты поняли, что надо в это вкладываться, и Google, и Microsoft, и Цукерберг. Уже перелом произошел, все поняли, что это работает, proof of concept доказан, и уже идет массовый забег в сторону конкретных препаратов. Я думаю, что на горизонте 10 лет мы будем уже на затоптанной полянке.
— А где место России в этом забеге? Вы видите другие научные группы, которые что-то делают?
— Их много. Даже в такой узкой области, как классическая генотерапия, в России есть пять-семь сильных научных команд и три-четыре фармкомпании. Biocad скопировал «Золгенсму» за два года. То есть они умеют и разрабатывать, и массово производить, и регистрировать генотерапевтические препараты.
— А фармкомпании должны к вам прийти в какой-то момент и сказать: давайте делать массовое производство?
— В теории да. Главный риск фармкомпаний: они вложатся в R&D, а препарат не пройдет проверку эффективности. Даже если на животных сработало, не факт, что на человеке сработает. Но персонализированные генные препараты не имеет смысла испытывать в традиционном смысле, их применяют по показаниям конкретному пациенту.
И должна существовать регуляторика, которая нам это позволяет делать. Если у одного пациента сработало с этим заболеванием, то и в других случаях скорее всего сработает. Поэтому как только мы прошли момент демонстрации эффективности на одном пациенте, вот в эту секунду эта история должна становиться интересной для бигфармы, потому то тут уже мало риска.
Есть и другая сложность, потому что это крайне редкие заболевания. Например, один ребенок на Россию рождается в год, и один укол в год не окупит расходы фармкомпании. На всей планете таких детей будет 100, но даже 100 уколов это очень мало. Возможно, где-то фирмам будет выгодно, а где-то мы будем продолжать работать в режиме лабораторного производства.
— Несколько лет назад много шума наделали ваши заявления о намерении редактировать геном эмбриона человека. Как вы сегодня смотрите на проблему?
— Это имеет смысл только в одном случае, если у обоих партнеров в паре генетически обусловленная глухота. Таких семей много, глухие друг с другом знакомятся, таких сотни в России. И их дети тоже будут с наследственной тугоухостью.
— После эксперимента Хэ Цзянькуя все рисуют апокалиптические картины, что детей будут себе заказывать со способностями к математике и с абсолютным слухом. И за этим маячат страхи перед евгеникой, перед выведением каких-то мутантов. Вы не видите за этим этической угрозы?
— Я считаю, нет. Можем ли мы специально сделать ребенка мутантом? Можем ли мы сделать вместо вкусного генномодифицированного помидора ядовитый? Можем. Но так задача не стоит. Всякий раз, когда я участвую в мероприятиях, и меня пытаются в этот угол загнать, я говорю: давайте разделять, мы специально мутантов делаем или мы всячески стремимся мутаций избежать? Конечно, мы можем сделать безопасный помидор, безопасный картофель, безопасное редактирование ребенка.
Можем ли мы сделать вместо вкусного генномодифицированного помидора ядовитый? Можем. Но так задача не стоит.
— А посадили бы вы Хэ Цзянкуя, как это сделали китайские власти?
— Нет. Да, его на самом деле никто и не сажал, его закрыли в лаборатории, как у нас в шарашке, сказали: так, сиди, не высовывайся, ты молодец, делай свои технологии дальше.
— Но его эксперимент имел смысл? Научный или практический?
— Три: научный, научно-практический и политический. Политический состоит в том, что Китай застолбил приоритет. Научный, что даже таким несовершенным редактором, которым пользовался он, у него получилось. Хотя сам клинический кейс совершенно неадекватен, не имело смысла это делать. Теоретически можно было бы редактированием немножко докручивать, то есть не просто взяли абстрактного ребенка и сделали из него марафонца. Надо взять уже потенциального мастера спорта и чуть-чуть подкрутить до олимпийского чемпиона. И редактировать надо еще до переноса яйцеклетки. Алгоритм, например, такой: мы на ЭКО берем десятки, сотни яйцеклеток, и читаем там полные геномы. И какой-то биоинформатический алгоритм нам их классифицирует как спортсменов. Дальше берем когорту бегунов, ее более детально изучаем. И уже из этой когорты говорим: хорошо, вот здесь у нас лежит потенциальный марафонец, и мы ему сейчас поменяем такой-то ген. В самом понятии «генетический допинг» ничего такого уж абстрактного нет, это возможно.
— Вы сами, если бы не смогли стать биологом, стали бы спортсменом?
— Кто учился в «Самбо-70», почти все легко становились мастерами спорта или КМС. Там был такой трек, человек заканчивает школу, становится кандидатом в мастера спорта. Потом была спортрота в Мосрентгене и продолжали бороться за ЦСКА. Потом, после армии, возвращались в большой спорт и дальше в тренерский актив. Мне это не очень нравилось.
— Но если представить, что карьера ученого недоступна. Какие альтернативы?
— Например, бизнес, предпринимательство. Я стартапер по натуре. Не умею развивать что-то системно, планомерно, строить какую-то правильную структуру, это скучно. Интересно запускать проекты.
— Какие перспективы у российской биологии в условиях санкций? Будет у вас оборудование, расходные материалы?
— В условиях изоляции ни у чего нет перспективы. Остерман рассказывал, как он в 60-е годы работал в почтовом ящике, который изучал экстрасенсорные способности людей. И у них были разные лаборатории: медицинские, химические. И он мне говорил: «Понимаешь, у нас все было лучшее по оборудованию! У нас были на столе свежайшие американские и немецкие каталоги, мы могли просто листать и в любой прибор ткнуть пальцем, и через два-три месяца он у нас был в лаборатории». И это глубокий Советский Союз, какой-нибудь 1969 год. И сейчас это можно воспроизвести. В локальной системе мы можем создать всё. Но в масштабах страны это не работает.
Я категорический противник разговоров про какую-то отдельную специфичную страновую науку. Когда кто-то вынимает себя из мировой науки, в этот момент наука заканчивается. Современная наука — это всемирный живой организм. И нельзя говорить, что вот мы сейчас забором снова обнесемся, интернет отключим — будет у нас своя локальная наука. Нет, это не работает.
Опубликовано при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» № 075-15-2024-571 (и всемерной поддержке Физтех-Союза).
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
Ученые предложили новый способ оценки текущего темпа экспансии Вселенной с помощью едва уловимиого космического гравитационного «гула» от слияний неразличимых компактных объектов. Объединив данные наблюдений наземных интерферометров и статистику не выявленных сигналов, астрофизики получили уточненные ограничения параметра, вокруг которого разгорается один из самых острых споров в современной космологии.
Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.
Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.
Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.
Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.
Понятно


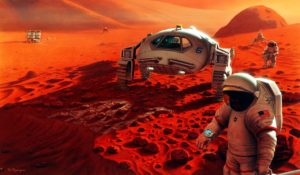





Последние комментарии